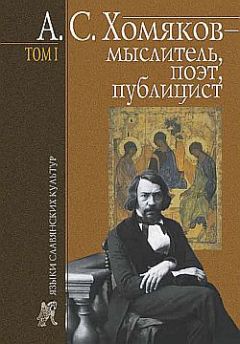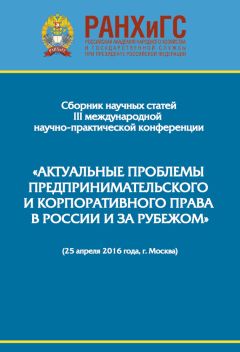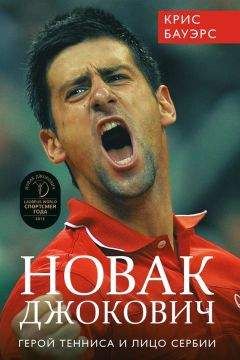В «Братьях Карамазовых» поставлен «на пороге» вопрос мучительный для писателя – о существовании Бога. Уже в начале романа, тезисно, дается ответ, так что весь последующий роман есть лишь его развертывание, – имеется в виду ответ Зосимы на вопрос «маловерной дамы», есть ли жизнь вечная: «… доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно <…>. Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей» (XIV, 52).
В романе у каждого из героев свой путь и свой опыт. Кому-то дано познать истину деятельной любви, кого-то ожидает крушение собственной «обособленной» правды, испытание не по силам, новые заблуждения, рабство идеи или плоти, мрак или просветление, но вся эта многоликая, разноголосая громада, изображенная Достоевским, не способна дать иного пути к истине, чем тот, о котором говорит Зосима уже в самом начале.
«Братья Карамазовы» подытожили искания Достоевского, но в какой-то мере они вернули его к тому времени (1863–1864), когда он близко принял и пережил прочитанное у Хомякова. Мистериальная постройка романа, которым художник закончил свой путь, покоилась во многом на фундаменте, сложенном христианским мыслителем. Прежде всего это относится к главной идее романа – идее всечеловеческого единения.
«Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»[270]. Этот вывод был сделан Хомяковым в результате осмысления опыта вселенской соборной церкви: русский богослов был первым, кто возвел этот опыт в ранг идеи, сделал соборность, бывшую церковным установлением и преданием, категорией философского мировоззрения. Соборность – форма земного воплощения идеальной христианской любви, единственно адекватная этому началу организация единоверцев. Причем организация не внешнего характера (по этому пути пошла западная церковь, как полагал Хомяков), но сугубо внутреннего, духовного. «Духовное общение молитвы»[271] – вот что позволяет, по Хомякову, преодолеть одиночество человека, отлученность от братьев и от Бога. Сцены молитвенного единения, как мы уже видели, появляются в творчестве Достоевского еще в 1840-е годы («Хозяйка», «Неточка Незванова»), когда лишь намечалось сближение писателя со славянофильством. По свидетельству тогдашнего знакомца Достоевского С. Д. Яновского, «вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников»[272].
Мотив молитвенного братства настойчиво проходит через поздние романы писателя («Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток»), пока, наконец, явственно и мощно не воплощается в кульминационной сцене прозрения и духовного воскресения Алеши в «Братьях Карамазовых» (глава «Кана Галилейская»): «Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а “за меня и другие просят”, – прозвенело опять в душе его» (XIV, 328).
Человек, как утверждал Хомяков, есть часть целого, и только в этом качестве он способен самоосуществиться как богоподобная личность. Хомяков не был исключительно богословом, его богословие стремилось охватить всю полноту земной жизни, и естественно, что принцип соборности он распространял за границы церковной организации: жизнь человека в обществе, в хозяйстве, в семье, по его мнению, устремлена к «живому единству» в не меньшей степени, чем жизнь в вере. В конечном счете эта устремленность проявляет себя в единстве национальном, народном. В черновиках Достоевского 1877 года читаем: «<…> связан и объединен наш народ пока так, что его трудно расшатать. Хомяков говаривал, говорят, смеясь, что русский народ на Страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а целыми деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая» (XXV, 305).
Сформированное в иных условиях жизни мировосприятие Хомякова не было эсхатологическим. Он, безусловно, ощущал собственную личность в гармоническом и несомненном единстве с народным «море-океаном», подчас до растворения в нем. «Отделенная (от народа. – В. В.) личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад»[273] – Хомяков писал об этом как бы со стороны, сохраняя душевное спокойствие. Его вера в русский народ, в его будущее была ничем не поколеблена. Достоевский утверждал то же самое (хотя и с оговорками, вроде «пока» в приведенном выше анекдоте о Страшном суде), но чем горячее, исступленнее он делал это, тем более выдавал гнездящееся в душе сомнение. Так, его Шатов («Бесы») во многом автобиографичен своим переходом от социализма к христианству, от западничества к славянофильству. Однако он, Шатов, весь в этом переходе, он только еще жаждет единения с народным целым.
Хомяков-мыслитель не мог не привлечь Достоевского как естественное продолжение того духовного мира и покоя, непоколебленной цельности, что источают книги Священного Писания и святоотеческая литература. Сам Достоевский был уже человеком иной эпохи, утратившим полноту соборного мироощущения и тоскующим об этой полноте. В нем заключался Зосима и в нем же – Иван Карамазов; что касается Хомякова, то, необыкновенно близкий «радостному» христианству первого, он духовно чужд оспариванию «мира Божьего» последним. Проблема теодицеи не была для него столь трагичной, как для Достоевского. Хомяков, очевидно, был явлением пограничным: самый переход соборности из бытия непосредственного в бытие осознанное, в категорию долженствования уже предвещал неизбежный переход в новое качество. Творческое сознание Достоевского – продолжение этого перехода: в него вошел Хомяков с его непоколебленным коллективизмом, но одновременно в него вошел и Ап. Григорьев с его обостренно-личностным стремлением к целостности бытия.
Европейская история представлялась Достоевскому так же не лишенной глубочайшего трагизма, как некое трудное и противоречивое становление «идеи всемирного единения людей», начала в форме «всемирной римской монархии» и лишь затем как «единение во Христе» (XXV, 151). Славянский, особенно русский мир, по Достоевскому, оказывался внутренне наиболее готовым к восприятию этой новой формы единения. Начиная «Дневник писателя» 1877 года, он заявляет: «Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение» (XXV, 20).
Не лишним будет отметить одну особенность: в постановке «русской идеи» Достоевский чаще всего пользовался сослагательным наклонением и будущим временем. В предсмертном «Дневнике писателя» 1881 года он делает важное уточнение: «Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее <…> в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует» (XXVII, 19). Здесь очевидна идея, идущая от Хомякова, но столь же очевидна и существенна поправка к ней: Церковь (православная), которую Хомяков активно выставлял в назидание западным братьям, по Достоевскому, «не созижделась еще вполне» (в ней не одни Зосимы, есть и Ферапонты).
Разграничению этого, впрочем, не чужд был и Хомяков, еще в 1839 году («О старом и новом») писавший о «порабощении церкви» государством на Руси и вычленявший в связи с этим «церковь возможную», «просвещенную», «торжествующую над земными началами»: «Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле». Позднее, в борьбе с католицизмом, Хомяков в полемическом увлечении отступил от собственного умозаключения: как выразился Н. А. Бердяев, он «реальной» западной церкви противопоставил «идеальную» восточную.
Хомяковская критика католичества (впрочем, как и критика его Достоевским, что замечал еще В. В. Розанов) могла быть перенесена во многом и на реальную православную церковь. Первым это сделал Ю. Ф. Самарин в предисловии к тому богословских сочинений Хомякова (1867), а затем И. С. Аксаков в своих обвинениях в адрес православных иерархов, не гнушавшихся «вещественной силой» полицейских мер[274]. По глубочайшему убеждению славянофилов, вера может существовать лишь вне насилия.
Мы подошли ко второму после соборности фундаментальному принципу христианского любомудрия Хомякова. «Закон Христов есть свобода» – таково самое краткое определение, им данное[275]. Христианство отнесено мыслителем к «иранскому» типу религиозного сознания (начавшегося с иудаизма), преодолевающего косную необходимость, вырывающегося на просторы творческой духовности, в отличие от «кушитства», религии необходимости (к этому типу Хомяков относил все формы язычества, буддизм, а также и «искаженное» христианство – католичество). В первом случае вера есть «акт свободы», во втором – исключительное подчинение «авторитету». Богословская концепция Хомякова уже сама по себе была таким «актом свободы», русский богослов смело ступил на путь религиозного творчества, покусился на толкование внутреннего смысла учения Христа, разумеется, опираясь на Священное Писание и традицию святоотеческой литературы. Ю. Ф. Самарин свидетельствовал, что «Хомяков представлял собою оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании»[276]. Еще сильнее выражался Н. А. Бердяев: «Если в традиционном учении Церкви нет такого учения о свободе и человеке, то это указывает на его неполноту и недостаточную раскрытость христианской истины. В этом была творческая задача русской религиозной мысли»[277]. Впрочем, эта «свобода» показалась уклонением и подверглась жесткой критике хранителей ортодоксии, резонно при этом указывавших на необходимость подчинения в церкви[278]. Что касается Достоевского, то он был на стороне Самарина и решительно двинулся по хомяковскому пути осмысления христианства как религии свободы.